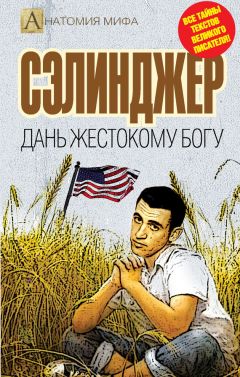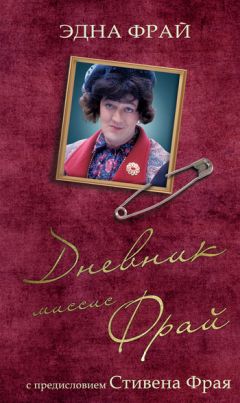Дело было в октябре. Я поступил в университет.
Судя по интонации, рассказ Форда то ли близился к концу, то ли уже завершился. Он улыбнулся Корин.
— Ты все еще похожа на школьницу, Корин. Посмотри на свои руки.
Корин, как примерная ученица, сидела, сложив перед собой руки на столе.
— Видишь ли… — вдруг сказал он и замолчал.
Корин не пришла на выручку. Форд был вынужден договорить.
— Видишь ли, — повторил он, не сводя глаз с ее сложенных рук, — семь с половиной лет в моей жизни не было ничего, кроме поэзии. А до этого, — он замялся, — годы и годы неустроенности. Еще — недоедание. Ну и «Мальчики-разбойники». — Форд опять замолчал, и Корин подумала, что он решил прямо сказать о том, что ему приспособиться к жизни было труднее, чем другим. Но он снова стал излагать факты. Говоря о себе, он избегал поэзии.
— Я никогда не брал в рот спиртного, — сказал он очень спокойно, словно признался в чем-то совсем заурядном. — Не потому, что моя мать была алкоголичкой. Я и не курил. Когда я был совсем маленький, кто-то сказал мне, что от алкоголя и табака притупляются вкусовые ощущения. По-моему, я до сих пор остаюсь в плену детских предрассудков. — Тут Форд выпрямился. Движение было едва заметное. Но от Корин оно не укрылось. Форд впервые показал, что следит за собой. Он тем не менее продолжал дальше, причем без натуги. — До сих пор, покупая билет на поезд, я удивляюсь, что должен платить полную цену. Я чувствую, что меня провели, надули, когда у меня в руке обычный взрослый билет. Мне было пятнадцать, а мать все еще говорила кондукторам, что мне нет двенадцати.
Мельком взглянув на часы, Форд заметил:
— Мне, к сожалению, пора, Корин. Был очень рад повидать тебя.
Корин откашлялась.
— Ты можешь… можешь прийти ко мне домой в пятницу вечером? — торопливо спросила она и добавила: — У меня будут самые близкие друзья.
Если раньше Форд и не успел понять, что Корин любит его, то сейчас наверняка понял и окинул ее быстрым взглядом, который весьма трудно описать, но зато легко проанализировать задним числом. Этот взгляд не содержал открытого предостережения, но все же намекал: «Не стоит ли поосторожней? Со мной, и вообще?» Совет мужчины, любившего что-то, сейчас не существенное, или подозревающего самого себя в добровольной или вынужденной утрате неких свойств, имеющих необычайное, почти мистическое значение.
Корин пренебрегла взглядом и полезла в сумку.
— Я напишу адрес, — сказала она, — пожалуйста, приходи. Конечно, если можешь.
— Обязательно приду, — согласился он.
Неделя, потянувшаяся в ожидании новой встречи с Фордом, показалась Корин необычной и утомительной, — она с волнением, но охотно занималась переоценкой собственной внешности, в результате чего сочла свой красивый, с высокой переносицей нос слишком крупным, а ладную, пропорциональную фигуру — костистой и безобразной. Она все время читала стихи Форда. Обеденный перерыв она неизменно проводила в цокольном этаже у «Брентано», разыскивая литературные журналы, которые могли поместить на своих страницах стихи или статьи о стихах ее возлюбленного. После работы она доходила до того, что читала со словарем получившее теперь известность, а когда-то не к месту опубликованное во французском дамском журнале «Madame Chic»[23], эссе Жида о Форде — «Chanson… enfin»[24].
В десять часов того самого вечера, когда Форд должен был прийти, у Корин зазвонил телефон. Попросив кого-то приглушить патефон, она выслушала его извинения: Форд сказал, что не сумел выбраться. Он объяснил Корин, что работает.
— Понимаю, — ответила она и затем, не удержавшись, спросила: — а ты еще долго будешь работать?
— Не знаю, Корин. Я только разошелся.
— А-а, — протянула она.
Форд спросил:
— А вечеринка у тебя еще не скоро кончится?
— Это не вечеринка, — возразила Корин.
— Ну неважно. Друзья пока не расходятся?
Корин заставила друзей сидеть до четырех утра, но Форд не появился.
Он, правда, снова позвонил, назавтра, в полдень. Вначале домой, а потом на работу, по номеру, который дала ему горничная.
— Корин, мне ужасно жаль, что вчера так вышло. Я проработал всю ночь.
— Все в порядке.
— Ты можешь со мной сегодня пообедать, Корин?
— Да.
Тут я могу использовать два испытанных голливудских приема. Календарь, с которого невидимый электрический фен сдувает листки. И великолепное бутафорское дерево, которое, расцветая в две секунды, превращает лютую зиму в пьянящую раннюю весну.
В продолжение четырех следующих месяцев Корин и Форд виделись раза три в неделю, не реже. Всегда в жилых кварталах города. Всегда среди навесов третьеразрядных кинотеатров и почти всегда над пиалами с китайской едой. Корин это не смущало. Не смущало ее и то, что их вечерние свидания почти всегда — за редким исключением — заканчивались около одиннадцати, — в этот час Форд, у которого был режим, испытывал потребность вернуться к работе.
Иногда они шли в кино, но чаще сидели до закрытия в китайском ресторане.
Говорила теперь чаще Корин. Форд рассуждал подробно лишь о поэзии или поэтах. Два вечера, правда, выдались необычные — он пересказал ей от начала до конца свои эссе. Одно о Рильке, другое об Элиоте. Но в основном он слушал Корин, которой надо было выговориться за целую жизнь.
Каждый вечер он провожал ее до дому — в метро, потом на автобусе, но в квартиру поднялся всего один раз. Взглянул на ее Родена (принадлежавшего некогда Кларе Рильке), взглянул на ее книги. Она поставила ему две пластинки. Потом он уехал.
Корин привыкла понемногу употреблять спиртное — большинство ее друзей или выпивали или сильно пили, — но в те дни, когда она встречалась с Фордом, не брала в рот даже коктейля. На всякий случай. Она боялась, что спугнет его своим дыханием, когда, не сдержав порыва, он заключит ее в объятия на фоне городской окраины, укрывшись в тени какой-нибудь галантерейной лавки или магазина оптики.
Поцеловал ее Форд, как назло, когда она пришла с редакционной вечеринки.
Поцеловал он ее в китайском ресторане. Приблизительно месяца через два с половиной после их первой встречи Корин поджидала там Форда, читая гранки своей статьи. Он подошел к ней, поцеловал, потом снял пальто и сел. Это был рядовой, нисколько не возвышенный поцелуй рядового, ничуть не возвышенного мужа, заглянувшего после работы в гостиную. Корин, между тем, была слишком счастлива, чтобы гадать, отчего Форд так скоро преодолел возвышенный период. Позже, подумав мимоходом о случившемся, она пришла к утешительному для себя выводу, что их поцелуи проходят обратную эволюцию.
В тот же вечер, когда Форд ее поцеловал, Корин спросила, не выберет ли он время, чтобы познакомиться кое с кем из ее друзей.
— У меня чудесные друзья, — объясняла она с воодушевлением, — они все знают твои стихи. Некоторые только ими и живут.
— Корин, я довольно необщительный…
Корин что-то вспомнила и, улыбаясь, наклонилась к нему.
— Именно это слово употребила мисс Эйглтингер, когда говорила о тебе, вернее, кричала в приспособление, через которое слушал мой папа. Помнишь мисс Эйглтингер?
Форд кивнул, без тени умиления.
— А как я должен себя с ними вести?
— С моими друзьями? — изумилась Корин, но тут же заметила, что Форд не шутит. Она решила пошутить сама: — Ну-у пожонглируешь немного индийскими булавами, расскажешь, кто твои любимые кинозвезды.
Шутки ее до Форда, как правило, не доходили. Она потянулась через стол и взяла его за руку.
— Милый, тебе не надо ничего делать. Этим людям просто хочется увидеть тебя.
Неожиданная мысль просто потрясла ее, буквально огорошила.
— Быть может, ты не понимаешь, что значат для многих твои стихи?
— Ну почему же, думаю, понимаю. — Ответ был неубедительный. Корин такой ответ совсем не устраивал.
Она заговорила горячо.
— Милый, стоит открыть у «Брентано» любой литературный журнал, как тут же натыкаешься на твое имя. А человек, которому ты меня представил? Казначей, если не ошибаюсь? Он же говорил, что о «Робком утре» пишут целых три книги. Одну даже в Англии. — Корин провела рукой по костяшкам его пальцев. — Тысячи людей не могут дождаться среды, — продолжала она нежно. (Подразумевалось, что вот-вот выйдет в свет вторая книга Форда.)
Он кивнул. Но все же что-то его беспокоило.
— А танцев у тебя случайно не будет, а? Я танцевать не умею.
Через неделю, или около того, большая компания лучших друзей явилась к Корин знакомиться с Фордом. Первым пришел Роберт Уэйнер, За ним — Луиза и Элиот Зеермейеры из Такахо, очень тонкие люди. Следом пришла Элис Хэпберн, которая преподавала тогда или еще раньше в Уэлсли. Симор и Фрэнсис Херц, самые большие интеллектуалы среди знакомых Корин, поднимались на лифте вместе с Джинни и Уэсли Фаулерами, партнерами Корин по бадминтону. По меньшей мере пятеро из собравшихся читали обе книги Форда. (Новинка — «Человек на карусели» — только что появилась.) И по меньшей мере трое из этих пяти искренне и неустанно восхищались гением Форда.
![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](https://cdn.my-library.info/books/126997/126997.jpg)